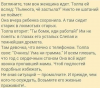господи мой, прохладный, простой, улыбчивый и сплошной
тяжело голове, полной шума, дребезга, всякой мерзости несмешной
протяни мне сложенные ладони да напои меня тишиной
я несу свою вахту, я отвоёвываю у хаоса крошечный вершок за вершком
говорю всем: смотрите, вы всемогущие (они тихо друг другу: "здорово, но с душком")
у меня шесть рейсов в неделю, господи, но к тебе я пришел пешком
рассказать ли, как я устал быть должным и как я меньше того, что наобещал
как я хохотал над мещанами, как стал лабухом у мещан
как я экономлю движения, уступая жилье сомнениям и вещам
ты был где-то поблизости, когда мы пели целой кухней, вся синь и пьянь,
дилана и высоцкого, все лады набекрень, что ни день, то всклянь,
ты гораздо дальше теперь, когда мы говорим о дхарме и бхакти-йоге, про инь и ян
потому что во сне одни психопаты грызут других, и ты просыпаешься от грызни
наблюдать, как тут месят, считают месяцы до начала большой резни
что я делаю здесь со своею сверхточной оптикой, отпусти меня, упраздни
я любил-то всего, может, трёх человек на свете, каждая скула как кетмень
и до них теперь не добраться ни поездом, ни паромом, ни сунув руку им за ремень:
безразличный металл, оргстекло, крепления, напыление и кремень
господи мой, господи, неизбывные допамин и серотонин
доживу, доумру ли когда до своих единственных именин
побреду ли когда через всю твою музыку, не закатывая штанин
через всю твою реку света, все твои звёздные лагеря,
где мои неживые братья меня приветствуют, ни полслова не говоря,
где узрю, наконец, воочию - ничего не бывает зря
где ты будешь стоять спиной (головокружение и джетлаг)
по тому, как рябью идет на тебе футболка, так, словно под ветром флаг
я немедленно догадаюсь, что ты ревешь, закусив кулак