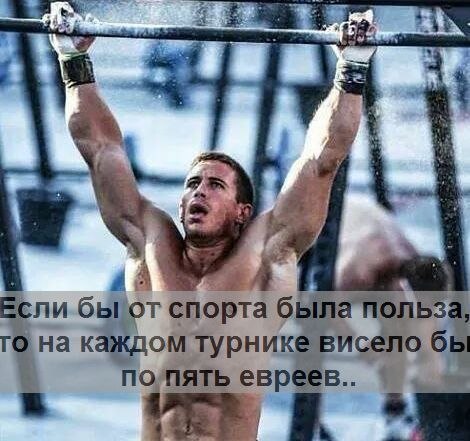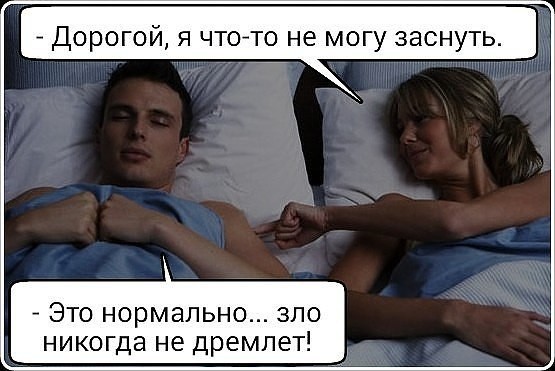Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
В размышлениях.
- Автор темы NadZ
- Дата начала
natasha_n_n
Местный
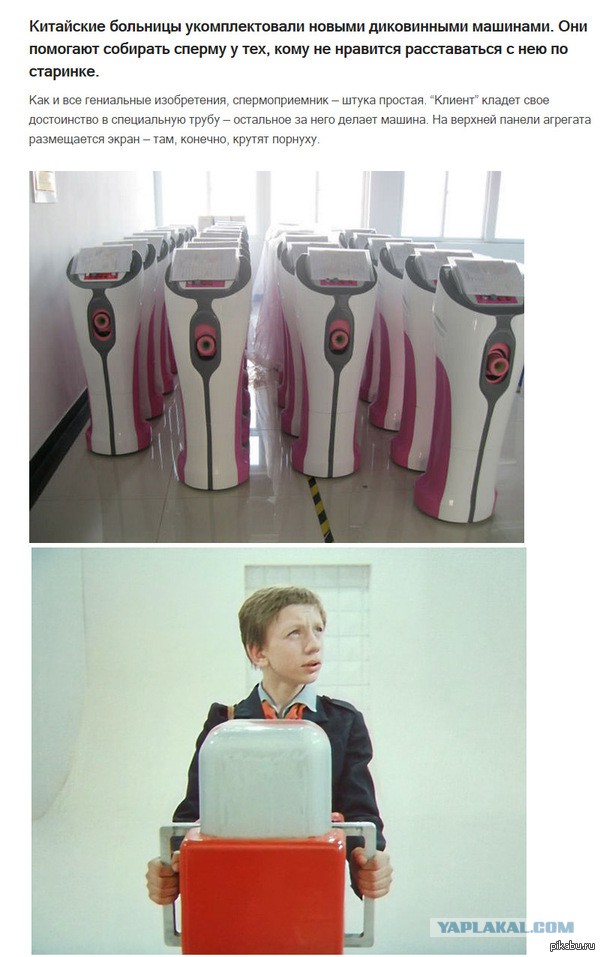
Пророчество ?..
Альбедо-1318
<-|Клоун-Безколпачник|->
У них в Китае с Китайцами хорошо, а Китаек мало, они даже наверное забыли как они выглядят, а их порнуха - это сиськи из задниц молодых китайцев(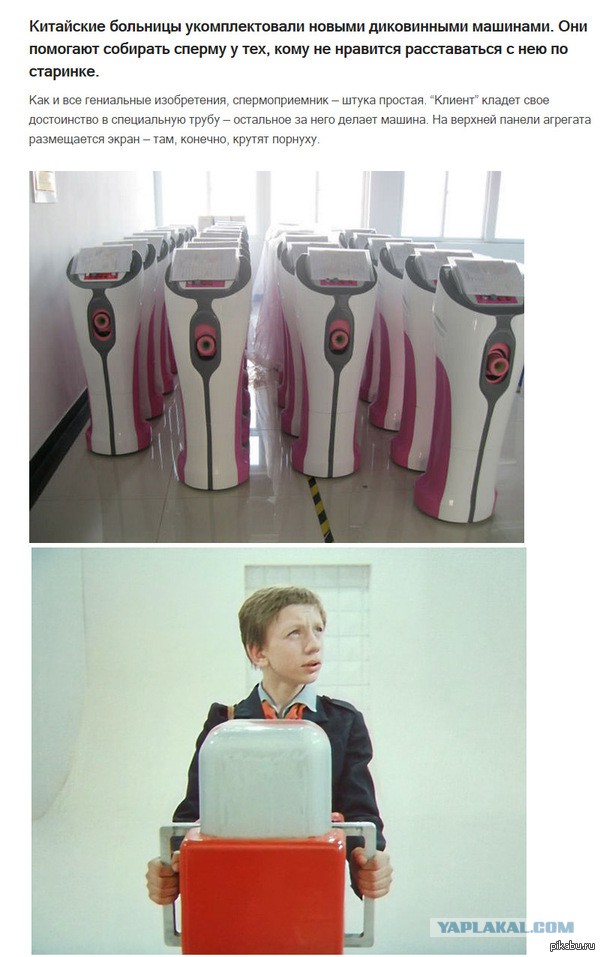
Пророчество ?..
Дизель
Южный ветер
на святое замахнулись, на Колю!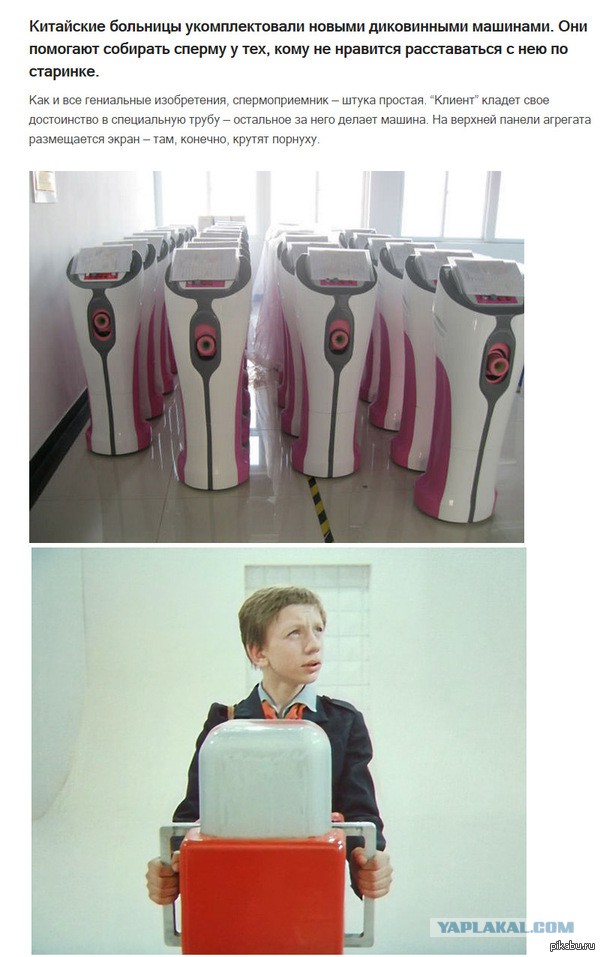
Пророчество ?..
Альбедо-1318
<-|Клоун-Безколпачник|->
Да никто на него не замахивался. китайцы смотрят либо китайские задницы. либо в светлое коммунистическое будущее имени великого Мяо)на святое замахнулись, на Колю!
natasha_n_n
Местный
Аха ?...Да вы тайный китаист ?!..У них в Китае с Китайцами хорошо, а Китаек мало, они даже наверное забыли как они выглядят, а их порнуха - это сиськи из задниц молодых китайцев(
Альбедо-1318
<-|Клоун-Безколпачник|->
для китайца я слишком толстый, да и гастрономические предпочтения у меня ...не китайские)Аха ?...Да вы тайный китаист ?!..
Не люблю кушать змеек, ящериц, драконов - люблю за ними наблюдать)
natasha_n_n
Местный
natasha_n_n
Местный
natasha_n_n
Местный
Лидия СычеваСидела я в школе, ливень по окнам бил неистово, и думала я о своей незадавшейся жизни. Пока свободная минутка выпала: а то ж начальство всё время заставляет что-нибудь делать за него! Живёшь как в рабстве – оглядеться некогда. Часов (уроков) мало дали, копейки позорные считаешь, выкручиваешься и так, и сяк, и при этой нищете ещё и пытаешься приличия соблюсти, достоинством себя наполнить. Всё-таки учитель словесности, нравственные ценности несу подрастающему поколению. Хотя в душе – полное несогласие с воровскими шайками, которые нами правят на всех этажах государства. Вот как детям объяснить несправедливости мироустройства? Они ж не дураки, видят развал в стране! С чем их в жизнь выпускать?!
Дождь хлестал по мутному стеклу прямо с остервенеем. Порядочный хозяин в такую погоду собаку на улицу не выпустит. А я на себя навесила работу с трудными детьми, чтобы чуть подзаработать. И надо бы сейчас, пока «окно» между уроками, тащится в асоциальную семью, составлять акт о материальном положении. А у меня и зонта порядочного нету. При первой же буре спицы ветром вывернуло – китайцы всё одноразовое шлют; они люди расчетливые, вычислили, что скоро нам каюк.
И во время этих невесёлых раздумий является предо мной мужик. Среднего роста, с измождённым лицом, весь мокрый, с головы до пят. Типичный пролетарий – изработанный, жилистый, заморёный. Одежда на нём самая дешевая: джинсы с пузырями на коленах, куртёшка тесная, не по размеру. Вокруг ботинок «прощай, молодость» лужица натекла. Весь он жалкий и морщенный, как старый целлофановый пакет.
Мнёт в руках кепчонку заношенную. И – неожиданно на чистом литературном языке, очень складно, в развёрнутых предложениях излагает свою нужду.
Жил он в тяжелом городе Перми, и там семь лет назад умерла у него жена от онкологии. И остались у него двое детей: дочка Саша, совершеннолетняя, и дочка Даша, школьница. Старшая в Перми на бюджете училась, а младшую он привёз в наш жлобский городишко Кипряны, где проживала его теща. Работы тут никакой, мужик мотался в Москву, сторожил офисы, на стройке бетон мешал, автозапчастями торговал у хозяина. Сейчас он обосновался в деревне Кокошкино, у него другая семья и тоже есть дети – дочь женщины, с которой он сошелся, и общий сын-младенец.
И пока мужик тянулся из последних сил, чтобы из Москвы обеспечить родню в трёх далековатых точках – тяжелом городе Перми, жлобских Кипрянах и депрессивной деревне Кокошкино, дочь Даша пустилась во все тяжкие. Школу нашу рабоче-крестьянскую она ещё кое-как закончила. Поступила в область на экономиста платно, но учёбу вскоре бросила, поскольку родила ребёнка незнамо от кого.
Сейчас дитю три года, Даша – без средств и пребывает в отчаянном положении. Пьёт, ведёт разгульную жизнь. А просьба у Фёдора Кирилловича (имя мужика) такая: чтобы я помогла ему внучку Машеньку сдать в приют. Потому как взять дитё к себе у него нет материальной возможности – он по заработкам бегает, а жена его в деревне, и общее их положение стеснённое. Работает он нелегально, без оформления, и по закону – неимущий. Никто такому нищеброду ребенка не отдаст, нечего и затеваться.
Выслушала я эту печальную повесть с глубоким вниманием и говорю ему:
– Вы на машине?
– Нет.
Ну, думаю, дело плохо. У нас даже в самых нищих семействах теперь хоть завалящая машинёнка, а есть – общественный транспорт ходит отвратительно, по выходным – вообще тишина. А в деревне без машины – труба, это как до революции – крестьянин без лошади.
Фёдор Кириллович говорит мне:
– Даша недалеко живёт, можно и пешком.
И надо же – дождь кончился! Солнце в окно ударило, осветило закуток в учительской, где я за фикусом сидела.
– Ладно, – говорю, – идёмте.
И я за ним, как старая коза, поскакала на каблуках – цок-цок – на улицу Мира. Фёдор Кириллович поясняет, что после смерти тещи домишко её они продали, Даше купили малосемейку, а остальные деньги давно прожили.
Идём мы с ним, перебрасываемся словами, я подробности выспрашиваю, чтобы не молчать – хотя и так всё ясно, как Божий день. А сама смотрю на улицу как в первый раз. Кованые заборы, ворота роскошные, иномарки дорогие – городишко наш торгашеский. Умеют люди вертеться при любом строе. А рядом с особняками, между богатыми домами, как гнилые зубы – халупки облупленные, штакетник проваленный, безнадёга полная. Во как народ рассортировали!
Приходим мы к двухэтажному многоквартирному дому советской постройки. Оконца облупленные, в подъезде темно, кошками пахнет. Везде приметы стойкой бедности – порожки выщербленные, лестница тёмная, дерматин потрескавшийся.
Бьём в двери (звонок не работает, электричество давно отключили – за долги). Открывает нам размалёванная девица в штанишках укороченных, в футболке рекламной «Сеть магазинов Ешь сегодня», на голове – красная бандана. По школе я её не помню – в моих она классах не училась, в чужих ничем не прославилась. Внешности обычной, незапоминающейся, сложения тоже – худенькая, росточка среднего.
Дитё на продавленном диване сидит, сосёт сушку. В рекламной футболке «Подари жизнь». Больше на Машеньке ничего нету, даже носков. Но дитё, что я отметила, не запуганное, живое и бодрое.
Огляделась я… Видала, конечно, и раньше я нищету – чай, не с Марсе приехала. Но в таком пристанище ещё не бывала. Квартирёнка на первом этаже, 29 метров общая площадь. Стены и потолок в жутких подтёках – соседи сверху залили. Из мебели – диван, столик на кухне, два стула. И шкаф. Всё!
Сели мы с несчастным мужиком на стулья шаткие, Дашенька с Машенькой на диване рядком, и начала я в безбашенной матери-одиночке разум пробуждать.
– Вы хотите сдать ребенка в приют. А вы понимаете, что можете его навсегда потерять?! Вас лишат родительских прав, Машеньку заберут опекуны – девочка славная, симпатичная, вы её родили, когда были молоды и здоровы. Возьмут её богатые бездетные люди, принарядят, песни и потешки с ней разучат. А потом взятку дадут кому надо и удочерят. И вы Машеньке – никто…
Глупая мамаша набычилась и молчит. Голову опустила, задумалась.
Я нажимаю:
– А если жизнь сложится так, что вы больше никого не родите?! Как можно от здорового ребёночка добровольно отказываться?!.. Опомнитесь, Даша!
Тут её как прорвало:
– А мне её кормить нечем! Отец привез продуктов из деревни, неделю проживём. А потом? Пусть государство забирает и кормит! Я не могу на голодную дочь смотреть. Совесть не позволяет! У меня сердце разрывается-а-а…
И начала плакать.
– Но вы же на гульбу деньги находите?
– Я свои не трачу! У меня их нет! Знакомые угощают.
– Пишите, – говорю, – заявление на передачу дочери в приют. Неделю будут оформлять. А я обязана с этого момента контролировать ваш быт.
На том и распрощались.
Вернулась я в школу под сильным впечатлением. Кинули мы с завучем по воспитательной работе клич – по сбору вещей для приюта. На следующий день дети натащили нам тряпья, обуви, игрушек.
Я рассортировала добро на мальчиковое и девичье, на чистое и не очень, на ношенное и почти новое. Набила две китайских клетчатых сумки вещами для Даши и Маши, и двинулась на улицу Мира.
Прихожу. Стучу в дверь. Не открывают. Стала тогда громко вещать: я, мол, с инспекцией, сейчас буду вызывать полицию.
Даше приоткрыла дверь. Размалёванная ещё больше, глаза под синими тенями бегают туда-сюда. Начинает мне что-то лепетать про неприкосновенность жилища.
Я отодвигаю её в сторону, прохожу в квартирёнку. И вижу такую картину: дитё, обряженное в линялое платьице, на диване играется с пустыми банками из-под «Кока-колы», а за столом сидят два огромных бугая под два метром ростом и пьют. Закуска скромная: хлеб чёрный, луковица, селедка магазинная в лотке, колбаса варёная.
Села я на диван к Машеньке. Говорю бугаям: мол, я – такая-то, пришла с инспекцией к семье, попавшей в трудную социальную ситуацию. А вы кто?
Одному на вид лет сорок, другому около тридцати. Оба в Москве работают вахтами в охране, приехали домой со смены. Зашли к Даше в гости.
– Понятно, – говорю. – Ну, я подожду, когда вы нагоститесь.
Бугаи гмыкнули. Но спорить не стали, ударно допили бутылку и ушли, урча. Как псы, у которых из-под носа сахарную кость выдернули.
Даша бросилась объясняться:
– Они мне денег пообещали на продукты дать…
Меня такое зло взяло! Еле сдержалась, чтобы не заорать.
– Вы хоть понимаете, что превращаетесь в обыкновенную шалашовку?! Куда катимся?..
– А что я могу?! Я через день, с восьми утра до двенадцати ночи, работала в кафе «Нарцисс» уборщицей и официанткой, мне заплатили четыре тысячи за месяц. Машеньку из детсада забирала троюродная тётка. А потом ей огород сажать, она сказала – я не могу. И я бросила работу, чтобы детсад не потерять. Теперь у частника полы мою утром и вечером в магазине «Рассвет» – зарплата две тысячи. С отца много не возьмёшь – у него своя семья!.. Как мне надоела эта нищета, хоть в петлю лезь!.. – и началась истерика. Даша матом гнёт, рыдает, по комнатёнке мечется.
Кое-как я её утихомирила, устаканила, а у самой в душе такая смута, что если б у меня в руках была в тот момент сила, я бы точно отчаянный поступок совершила: теракт или революцию. Чувствую, что участвую в какой-то гадости, и ничего поделать не могу!.. Дитё это, Машенька, глазёнками небесными таращится, окно немытое с грязным тюлем, пустая бутылка «Путинки» под столом, и я с гуманитарной помощью в сумках для «челноков» и с «нравственными ценностями» от патриарха Кирилла!.. Ужас.
Ладно, говорю, в четверг поедем в приют, готовьтесь. И ушла.
Дома напилась валерьянки – шесть таблеток – только после этого «заморозилась», утишилась. Господи, думаю, зачем ты нас мучаешь?!.. Какой в этом смысл и для кого?!
В четверг, скрепя сердце, прихожу я на улицу Мира. Вижу, что тряпки наши в дело пошли: Машенька обряжена в сарафан длинный, через плечо у неё сумка дамская висит «от кутюр», на голове тюрбан из шарфа накрученный. Даша в джинсиках, в кофточке – тихая и грустная.
Звоню в соцслужбу: мол, так и так, готовы ехать в приют, присылайте за нами кабриолет.
Прибыл за нами водитель Василь Потапыч на «буханке». Погрузили мы скарб и отправились в невесёлый путь. Дорогой я втолковывала Машеньке: мол, поживешь в детском садике немножко, а мама тебя потом заберёт.
Приехали мы в богоугодное заведение, расположенное на отшибе Кипрян. С пригорка открывался печальный вид на остовы молочно-товарной фермы ушедшего в небытие колхоза «Большевик» и заросший густым борщевиком лужок.
Наступает волнительный момент. Встречают нас чин чином аж пять человек из богоделенки: мордатая баба, начальник приюта, медсестра в маске на пол-лица, психолог с башней-начёсом на голове, логопед с куклой-неваляшкой в руках, завхоз-мужик в синем халате (муж мордатой бабы). Листают «дело» на Машеньку. И вдруг строго говорят: «Ой, а мы вас взять не можем! Мамочка не все бумажки собрала!»
Немая сцена. Но длилась недолго – Даша впала в истерику, стала кричать:
– Мне её кормить нечем!..
А сытые морды запели:
– Мы не имеем права вас принять, по закону действуем.
Если бы у меня в тот миг был автомат Калашникова, я бы его приставила к пузу и как в фильмах про фашистов – «Та-та-та-та» – дала бы очередь и расстреляла бы этих пресыщенных курв, сидящих на бюджете и ворующих у приютских детей продукты!.. (У меня знакомая поваром работает, она в курсе махинаций.) Эх-х!.. Перед кем вздумали власть показывать – перед сиротами беззащитными!.. Вы бы попробовали главе Кипрян что-нибудь вякнуть, который весь городишко в собственность оформил!..
Но не стала я ругаться и буйствовать, а мысленно сосчитала до десяти, как советуют психотерапевты успешным людям, и с ледяным спокойствием говорю им:
– У вас есть изолятор. Положите туда ребёнка, дообследуйте и будут бумажки в ажуре. А если вы отказываетесь, то прошу предоставить мне документ. Если чего с девочкой случится – голодный обморок, например, или судороги – это под вашу личную ответственность, я свою миссию выполнила.
Ну, они труханули «личной ответственности» и Машеньку, скрипя зубами, оформили.
Едем мы назад с Потапычем, человеком труда, который нас, естественно, морально поддержал в этой сваре, и настроение в нашем небольшом коллективе подавленное, как после похорон. А Даша утешает нас, делится планами:
– Мне отец нашел работу в Москве. Он вообще-то инженер-энергетик, и когда мамка у нас была, мы хорошо жили. Я уеду в Москву на три месяца, деньжат подкоплю, а потом вернусь за Машенькой. А мечта такая: продать здесь всё и вернуться в Пермь. Люди в Кипрянах злые, заняты только собой и пузом. Никто ни разу мне не помог, не спросил: может, надо что? Как я живу? А в Перми – сестра Сашенька. Она замужем, а детей у неё нет. Сашенька давно меня зовёт. Я там комнатку в общежитии куплю и будет у меня всё хорошо. А тут, на эти зарплаты, жить невозможно, вы же видите.
…Вернулась я после скорбного путешествия в школу – отчёт по приюту писать. Сижу черней тучи, долблю с остервенением по клавишам компьютерным.
Тут ко мне подходит директриса со списком в руках:
– Мы комиссию избирательную формируем, вас включать?
– Не надо.
– А почему? Один день работы, три тысячи получите.
– Не могу, здоровье не позволяет.
– А что случилось? – у директрисы аж глаза округлились. Она у нас недавно, тоже из блатных, но до конца пока не забронзовела, способна на человеческое участие.
– В прошлые выборы, – говорю, – я уже сидела в комиссии. И у меня потом правая рука, которой фальшивые протоколы подписывала, чирьями пошла до плеча. Три месяца лечила, тьму денег извела. Обдумала я это дело со всех сторон и поняла: болезнь – знак свыше, Божье предупреждение. Больше в таких выборах не участвую.
Директриса онемела. Блым-блым глазками, не знает, что сказать.
– Извините, – говорит. И попятилась от меня, будто от чумной.
– Да, – говорю. – Пожалуйста.
2017
Последнее редактирование модератором:
natasha_n_n
Местный
natasha_n_n
Местный

А и взаправду,есть ли зависимость ?..
natasha_n_n
Местный


Задать вопрос | Заказать звонок
8(495)212-16-14
Телефон в Москве
Вход / Забыли пароль?
КорзинаПусто
Ваш ID: 37856
Главная > Одежда для маленьких собак>Шубки для собак>Шуба-комбинезон с капюшоном Норка сапфир, песец
Шуба-комбинезон с капюшоном Норка сапфир, песец

Понравился товар? Поделитесь ссылкой:
1
Размер :
MСкидки для постоянных клиентов
Артикул: 40197
Таблица размеров*. Как снять мерки?
Размер Длина спины (см) Обхват груди (см)
M 29 40
*возможна погрешность на 1см.
Нужна помощь? Позвоните нам 8(495)212-16-14 или закажите обратный звонок
Альбедо-1318
<-|Клоун-Безколпачник|->
Ледовое побоище - не ново)Друзья, тяжело было нашим ребятам в хоккее. Но мы шведов побили.
А вот в футболе - позор(((
Хорошо хоть, от Евровидения отошли.
natasha_n_n
Местный
Авторство моеДовелось мне как-то побыть моджахедом. Дело было полгода назад, но тому радикально-религиозному дню предшествовала двухнедельная подготовка.
Решил я, значит, отрастить бороду. Ну, как решил. Как раз тогда меня уволили с должности торгового представителя за то, что послал подальше супервайзера, облыжно обвинившего меня в появлении на работе в нетрезвом виде (все вранье и придирки: с утра я перебил запах перегара подсолнечным маслом).
Мне дали расчет, тысяч тридцать пять, что ли, а в соседний магазин как раз новый сорт пива привезли и продавали по акции 2+1. Ну, борода и выросла.
Вообще, поиск новой работы — дело быстротечное. Ты думаешь, мол, пару дней отдохну от старой, идешь за пивом, потом одним прекрасным утром смотришься в зеркало — чистый Гэндальф. Волшебство какое-то.
Деньги закончились, а последнюю одноразовую бритву, остатки крема для бритья и полпачки лаврушки утащил сосед Айбол, когда заходил отмечать мое увольнение. На свиданку собирался. Как назло, вчера я, допивая последнее пиво, договорился по телефону о собеседовании на должность агента по впариванию ипотечных кредитов. Но, конечно, с таким кустарником поперек лица никуда не возьмут. Не любят они нашего брата нонконформиста. До собеседования два часа, а денег нет. Вечно мне вот так не везет.
Стану магометанином, осенило меня. Богохульство, конечно, но правоверному атеисту разрешается. Страна у нас демократическая, если борода — обязательный атрибут для представителя моей конфессии, то — сосни, система.
Вооружившись ножницами, я как мог привел в симметрию вылезшую из подбородка мочалку. Покряхтев, достал с антресолей дешевую тюбетейку, в которой как-то играл Алдара Косе на новогоднем корпоративе. Надел бежевые бесформенные штаны, подвернул. Благоговейно обелоснежился единственной выходной рубашкой. Оставалось найти камзол и кожаные полусапожки. Будем точны в деталях, чтобы даже Станиславский, воскресни он из великой вечности, не подкопался бы.
Подумав немного, я пошел до Айбола. Долг платежом красен.
К счастью, тот был дома.
— Есть камзол и кожаные полусапожки? — начал я с места в карьер: время поджимало.
За что люблю Айбола как соседа, он в таких случаях не задает идиотских вопросов типа «А на фига тебе?», а добросовестно морщит лоб и начинает вспоминать. Очень тактичный человек.
— Боты есть какие-то, щас принесу. А что за камзол? Я тебе не граф де ля Фер, в камзолах не хожу.
— Нет, мусульманский камзол. Ну, видел же по городу вахи ходят. Верхняя одежда до колен, поверх рубахи одевается. Летом он такой из плотной ткани, что ли, а осенью это вроде как полупальто из цельной овчины.
— Так это не камзол ни фига. Скажешь тоже. По-другому называется. Да и вообще, ты, по-моему, два разных вида одежды описал.
— Да? Я не знаю, всегда так называл. Да пофиг. Есть такое у тебя?
— Откуда? Хотя щас, обожжи.
Он ушел в комнату и вскоре вернулся, неся в руках…
— Эй, это вообще чапан. Геннадий Головкин в таком на ринг выходит. Я, вообще-то, на собеседование иду, а не на сельский той. Ты сам-то давно в Семске на улице человека в чапане видел?
— Слушай, у меня тут не магазин. Не нравится — не бери. А вообще он бы тебе пошел: это племянника, а ты высокий, плечистый, тебе как раз по колено будет, раз уж ты любишь камзолы. И он не гламурный, как у Головкина, а неброский, пурпурный.
Я с сомнением смотрел на дикое сплетение казахских орнаментов. Не огрести бы в краю в таком балахоне. Тут Айбол повернул мои мысли в другое русло.
— Молодец, — говорит, — что к духовному подался, тебе на пользу. Шпек будешь курить?
— Айбол, — говорю, — у меня через полтора часа важное собеседование. Конечно, буду.
Мы прошли в ванную, Айбол включил вентилятор в отдушине, достал пластиковую аппаратуру, бумажный сверточек и стал рассказывать про свои неудачные свидания, периодически чиркая спичкой.
Через двадцать минут я вышел из ванной, снова посмотрел на чапан и увидел его в совершенно ином свете. Яркое солнце било в него из окна, и узоры играли, манили, волновали. В конце концов, это моя национальная одежда. Патриоты мы или нет? Мусульманин-патриот — да такого в любой фирме с руками оторвут. Надежные это ребята, совесть нации.
Тем временем Айбол принес боты.
— Пойдут?
— Блин, нет. У тех они изящные, с загнутым носком, как у Гарун-аль-Рашида, это же — говномесы, по болотам от китайцев бегать.
— Это папины, — обиделся Айбол, — не хочешь, не надо. Туфли вон возьми лакированные, только почисти, когда возвращать будешь.
Я облачился в туфли и чапан.
— Похож я на правоверного?
— Один в один. Так ты, прости за любопытство, в религию ударился?
— Нет, просто собеседование сегодня, а бритвы не было бороду сбрить. Вот, заделался вайнахом, толерантность нынче в моде.
— Гм. А почему просто бритву у меня не спросил?
— У тебя ее нет. Ты мою последнюю утащил.
— Это было две недели назад. Мы только что курили в ванной, несколько нераспечатанных станков было у тебя перед глазами на полочке все это время.
Я чертыхнулся, но времени бриться уже не было. Будем следовать плану А.
На улице на меня попяливались, но не чересчур. А я шел грудь колесом, чувствуя приток божественной энергии. Пусть бога звали Джа, а не Аллах, но результат мне нравился.
Я подошел к дверям «ЖилИнвестБанка», вошел, поздоровался с охранником.
— Уассаламугалейкум, брат, да пребудет с тобой Всевышний. Я на собеседование.
— Здравствуйте, — обалдело глядя на меня, ответил молоденький секьюрчик. — Вам в пятый кабинет, это вон по тому коридору, по правую руку вторая дверь.
— Рахмет, уважаемый, — я отправился по указанному маршруту.
В пятом кабинете сидели три девушки, и все три уставились на мой чапан. Я производил фурор.
— Салематсиздерме, кыздар. Я, волею Аллаха, на собеседование.
Одна из девушек нервно сглотнула слюну, поправила очки и предложила присаживаться. Я отдал резюме и стал дожидаться традиционных вопросов.
— Много где поработали, — с непонятной интонацией сказала кадровичка, пролистав резюме. — А с последнего места почему ушли?
— Происки шайтана. Не любит Иблис нас, светлых. Все пытается выставить «летунами». Средство тут одно — молитва и терпение. Но Аллах милосерден, ибо послал мне ваш банк.
— Ясно. Кем вы видете себя через десять лет в нашей компании?
— Как и сегодня — человеком, несущим свет истинного знания заблудшим душам. Дайте срок — мы с вами тут все взорвем. В смысле, изменим.
Одна из девушек, гляжу, встала и — юрк за дверь. Собеседование, меж тем, продолжалось.
— Опыт продаж, я смотрю, у вас есть. Почти месяц торговым представителем. Давайте, проверим ваши навыки. Попытайтесь продать мне, скажем, ваш камзол.
— Это чапан.
— Ваш чапан.
— Этот чапан — часть моей национальной идентичности. Неужто я должен продавать свою историю, своих предков, свой патриотизм? Слышал бы вас сейчас Назарбаев! Нет, я считаю, что любовь к своей стране, к ее традициям — вот основа успешных продаж и бойкой торговли. Жаль, конечно, что я не узбек, те то все торгаши, ха-ха-ха.
Знаю я эти собеседования. Главное — оригинальность. Не нужно идти у них на поводу.
Тем временем вернулась сбежавшая девушка. За ней в кабинет вошел плечистый охранник, занял подоконник и стал буравить меня взглядом. Я дружески улыбнулся ему, но в ответ увидел лишь сведенные брови. Понаберут дебилов.
— Допустим, — продолжала очкастая, — вы стали директором нашего банка. Какое первое распоряжение вы сделаете?
— Распоряжусь построить приют для сироток. Лично буду преподавать там во время, свободное от приведения банка к триумфу. Я сделаю из этих ребят людей будущего, готовых принимать вызовы времени. Типа тренировочного лагеря,
понимаете. Сотни бойцов нового поколения.
Все шло как по маслу. Девушки переглядывались, очевидно, сраженные моими ответами. Неудивительно, весь день, поди, слушали этих прилизанных вчерашних студентиков, этих дроидов без ума и фантазии.
— Последний вопрос. Почему мы должны выбрать именно вас?
— Я буду стараться, чтобы ваши души осенил свет истинного учения, и молиться, чтобы Аллах ниспослал вам множество простаков, готовых платить пятнадцать процентов годовых. Если же я обнаружу в нашем коллективе происки шайтана… — я изобразил, будто стреляю из автомата. Мол, не волнуйтесь, тети, вы за мной как за каменной стеной. Охранника почему-то перекосило.
— Хорошо, мы вам позвоним, — помолчав, сказала кадровичка.
— Только скорее, а то я могу и в Сирию уехать, — приправив таким образом окончание формальностей порцией доброго юмора, я раскланялся и вышел на свет божий.
— Эй, — послышалось сзади. Я оглянулся и увидел плечистого охранника, ну, того самого.
— Тебя не взяли, — сообщил он мне, держась за кобуру, — и ты это… к нам больше не ходи. Не ходи сюда, слышишь!
И не успел я хоть что-то ответить, как он шмыгнул за дверь и стал наблюдать за мной из-за стекла. Псих какой-то.
Расстроившись, я поплелся домой. Невезучий я человек, нарвался на каких-то антиклерикалов. Вот бы в «Нашу правду» написать, как у нас коммерческих структурах относятся к мирной религии.
Добравшись до дому, я постучал к Айболу.
— Солома осталась?
— Проходи.
Я вернул соседу туфли и чапан, курнул и пожаловался на работодательский беспредел.
— Зря я муслимом прикинулся. Сейчас тренд на все советское. Рубчинский, там, треники, кеды, научный атеизм, бардовские бороды. Надо было твои говномесы надевать.
— Это папины. Слушай, у меня тетя на рынке торгует, — сказал Айбол. — Там, она говорила, вроде грузчики нужны. Две тысячи в день, таскать надо мешки с овощами, коробки всякие. Могу позвонить ей, если хочешь. Там, может, что получше подвернется. Только побрейся, пожалуйста.
И я пошел работать грузчиком.
***
Если вам понравилось, продолжение - здесь
Последнее редактирование модератором:
Альбедо-1318
<-|Клоун-Безколпачник|->
Вот именно ВИСЕЛО бы...
От Российского футбола нынче тоже нет особой пользы, какие-то дураки мячик бездарно катают, а еврей набивает карман...
Jester
ФетиШут
Нет ли в этом антисемитизма?...какие-то дураки мячик бездарно катают, а еврей набивает карман...
natasha_n_n
Местный
Если бы семитизма не было...Тогда бы и антисемитов не было бы...Нет ли в этом антисемитизма?
Jester
ФетиШут
Так его и нет! Откуда же столько антисемитов?!Если бы семитизма не было...
Поделиться: